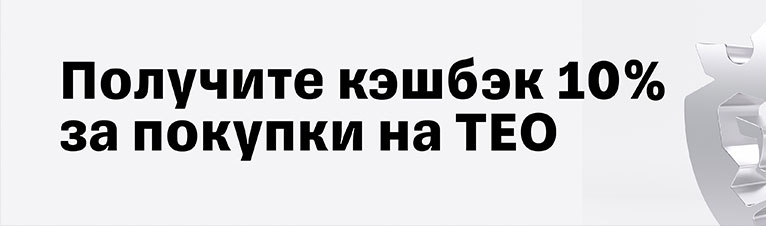Space as a premonition
"В хрущевках Гимранова есть что-то человеческое, слишком человеческое." А. Д. Боровский
Born in 1960 in Kazan.
1978-1986 worked in the studio of the artist Ildar Khanov (mosaic, sculpture, monumental painting)
In 1987, he became the founder and art director of the first non-state art gallery in Kazan, ARSENAL, which became the center of attraction for "unofficial" art from all over Tatarstan.
Since 1992 freelance artist. He is a participant of numerous exhibitions and art projects in Russia and abroad.
In 2017, he creates a fundamentally new urban artistic concept - a series of works "Khrushchev".
In 2022, he creates a resonant project "The Chronicles of the Flat Earth"
Exhibitions of recent years:
2018 exhibition “Khrushchev’s Thaw. The Housing I Loved” at the Rossotrudnichestvo office in London
2018 exhibition "You would like to be here" in the National Museum of the Republic of Tatarstan
2019 exhibition "Khrushchev" in the Gallery of Modern Art of the Pushkin Museum of the Republic of Tatarstan
2019 exhibition "Near Space" in the gallery "Ark", Moscow
2020 exhibition "Junk town" in the gallery "Ark". Moscow
2021 III International Triennial of Contemporary Graphics. Novosibirsk
Auction sales:
June 2017, painting "The First Day of Spring" (hardboard, acrylic, 61x91 cm) sold for 2,600 GBP ($ 3,300) at MacDougall's auction house. London
December 2021, "Captains of the Cloudy Fjords" (hardboard, acrylic, 90 x 85 cm) sold for 6300 GBP ($9,000) at Sothebys auction house (London)
The artist's works are in the State Russian Museum (St. Petersburg), the Kazan Kremlin State Historical, Architectural and Art Museum-Reserve, the Museum of National Culture of the Republic of Tatarstan, the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, the National Museum of the Republic of Tatarstan
 21
30
21
30
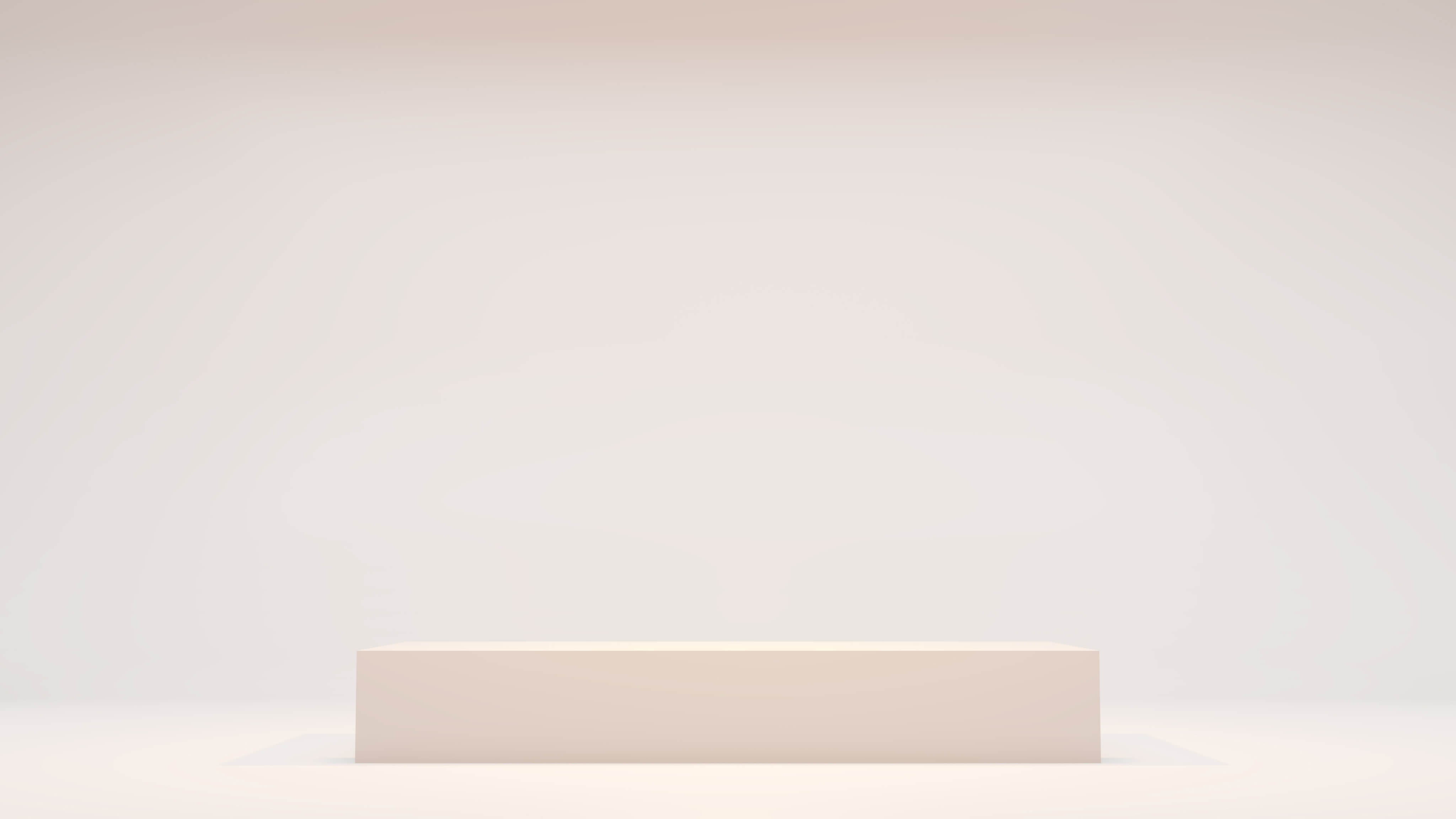

Submit an application
We will inform you about the availability of the product by phone after checking